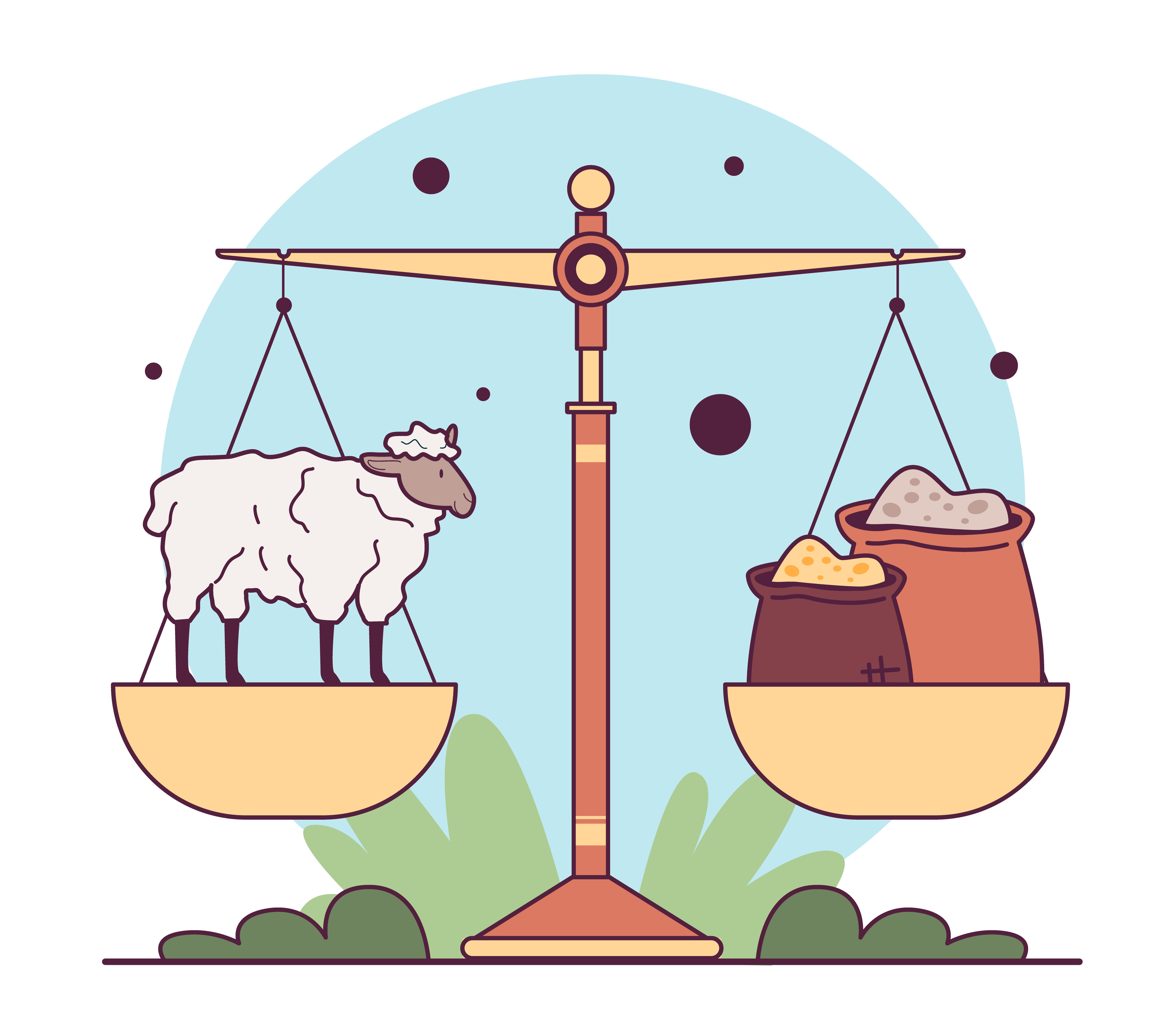https://ruh666.livejournal.com/891631.html
Роковые ошибки популярных доктрин, которые сбили с пути монетарную политику почти всех правительств, вряд ли появились бы на свет, если бы многие экономисты сами не делали бы ошибок в денежных вопросах и не упорствовали бы в них". — Людвиг фон Мизес, “Человеческая деятельность”.
На прошлой неделе я разговаривал по телефону с Питером Коем, который работал над статьей о деньгах для журнала The New York Times Magazine и он упомянул в разговоре старое трехкомпонентное определение денег из учебника, то самое, которое гласит, что деньги — это средство обмена, средство себержения (store of value) и единица учета. Это первое, что большинство студентов-экономистов узнают о деньгах. И как я подозреваю, это все, что они помнят.
Это очень печально. Потому что все это неправильно.
В этой статье я объясню, почему это неправильно. Я прослежу возникновение ошибочного определения от небрежного прочтения экономистами прошлого классического места в великой работе Уильяма Стэнли Джевонса “Деньги и механизм обмена”. Далее я покажу, как на самом деле Джевонс понимал значение “денег”, и покажу, что это понимание разделяли Карл Менгер и более поздние экономисты австрийской школы. В заключение я призываю раз и навсегда отказаться от трехчастного определения “денег” в учебниках в пользу того определения, за которое всегда выступал Джевонс.

Три функции денег
В своем учебнике “Принципы экономики” Эд Долан пишет, что “деньги — это актив, который служит средством платежа, хранилищем покупательной способности и единицей учета”. Грег Манкиу в своем учебнике “Принципы макроэкономики” также пишет, что “деньги выполняют три функции в экономике: Это средство обмена, расчетная единица и средство сбережения. Эти три функции вместе отличают деньги от других активов в экономике”. Я могу привести любое количество примеров такого традиционного способа определения денег.
Тройное определение денег встречается не только в учебниках. Согласно публикации ФРС Сент-Луиса, хотя “деньги принимали различные формы на протяжении веков”, все они “разделяют три функции денег:”
Первая: Деньги — это средство сбережения. Если я зарабатал сегодня 25 долларов, я могу хранить эти деньги до того, как потрачу их, потому что они сохранят свою ценность до завтра, следующей недели или даже следующего года. На самом деле, хранение денег — это более эффективный способ сбережения, чем хранение других ценностей, таких как кукуруза, которая может сгнить. … Вторая: Деньги — это единица счета. Вы можете думать о деньгах как о мериле — устройстве, которое мы используем для измерения ценности в экономических операциях. Третья: Деньги — это средство обмена. Это означает, что деньги широко признаны в качестве средства платежа.
Деньги не являются “средством сбережения”
Что не так со стандартным определением? Проблема в том, что даже в бесспорно “монетарных” экономиках часто случается так, что ни один товар или актив не выполняет все три функции, которые, согласно определению, должны выполнять “деньги”. Во всех таких случаях традиционное определение вызывает вопрос: если ничто не выполняет все три функции, где же тогда “деньги”? Если же они существуют, значит, не все из трех предполагаемых “функций” денег на самом деле являются функциями, которые деньги должны выполнять, не говоря уже о том, чтобы выполнять их хорошо.
Возьмем функцию сбережения. Конечно, то, что не имеет ценности вообще или имеет лишь очень эфемерную ценность, вряд ли сможет выполнять какую-либо из трех предполагаемых функций денег, а многие вещи, которые служили деньгами в прошлом, также были достаточно хорошими средствами сбережения. По этой причине нетрудно понять искушение предположить, что, какие бы другие функции они ни выполняли, деньги должны служить средством сбережения.
Но хотя верно, что явно негодное средство сбережения — как рожки мороженого в летнее время — вряд ли когда-либо сможет выполнить то, что считается другими “функциями денег”, довольно часто вещи, которые все считают “деньгами”, являются посредственным, а то и плохим средством сбережения. Фиатные деньги, например, всегда имеют тенденцию к обесцениванию, и, как известно, иногда они теряют ценность очень быстро. Тем не менее, даже в крайних случаях гиперинфляции такие фиатные валюты продолжают считаться “деньгами” и продолжают служить как средством учета, так и общепринятым средством обмена. (В конце концов, гиперинфляция может иметь место только тогда, когда цены выражаются в терминах некоторой фиатной единицы, когда количество этих единиц, расходуемых в любой данный период, быстро растет). Тем, кто настаивает на том, что деньги в таких случаях тоже служат “средством сбережения” можно задать вопрос: в каком значимом смысле бумажные марки служили “средством сбережения” в Германии осенью 1923 года? И если они были плохим “средством сбережения”, то были ли они, тем не менее, деньгами?
Если что-то может быть деньгами, несмотря на то, что является отвратительным средством сбережения, то верно и обратное: что-то может быть исключительным средством себережения, не будучи или никогда не становясь деньгами. К его чести, в оригинальном (1948) издании своего знаменитого учебника Пол Самуэльсон наделяет деньги только двумя функциями: это, по его словам, средство обмена и единица учета. Хотя он признает, что “человек может предпочесть хранить часть своего богатства в форме наличности”, Самуэльсон отмечает, что “в обычное время человек может получить доход на свои сбережения, если положит их на сберегательный счет или вложит в облигации или акции. Таким образом, нет ничего нормального в том, что деньги служат “средством сбережения”.
Самуэльсон усовершенствовал традиционное определение денег, состоящее из трех частей. Тем не менее, он все еще наделял “деньги” одной лишней функцией.
Деньги не являются и расчетной единицей
Если относительно легко указать на вещи, служившие как общепринятыми средствами обмена, так и средствами учета, которые, тем не менее, были плохими средствами сбережения, то не так легко найти случаи, когда расчетная единица экономики не являлась стандартной единицей предпочитаемого средства обмена. Для этого есть вполне веская причина: людям весьма удобно устанавливать цены на вещи и вести учет в единицах тех вещей, которые они предпочитают получать в качестве оплаты.
Тем не менее, иногда случается, что расчетная единица в экономике не основана на наиболее популярных средствах обмена или “отделена” от них, и в таких случаях мы снова вынуждены задаться вопросом, что же является “деньгами”? Это расчетная единица, или то, что ее определяет, или средство обмена? Ответ на этот вопрос еще на один шаг приближает нас к ответу на вопрос: “Что такое “деньги” на самом деле?”.
Здесь на помощь снова приходят высокие инфляции, поскольку они часто приводят к отделению учетных единиц от преобладающих средств обмена. Рассмотрим пример Бразилии в 1992 году. Только за один этот год цены, выраженные в официальной денежной единице Бразилии, крузейро, выросли более чем в десять раз. Но вместо того, чтобы выражать цены в крузейро, что означало бы менять их ежедневно, если не чаще одного раза в день, отели, рестораны и многие другие предприятия перешли на указание цен в долларах. Многие также вели счета в долларах. Тем не менее, крузейро оставались самым распространенным средством обмена в Бразилии. Так что же было “деньгами” Бразилии — доллары или крузейро? И если это были доллары, то чем тогда были крузейро?
Последний вопрос носит риторический характер. Крузейро больше не служили Бразилии полезной расчетной единицей, и уж точно никто не считал их достойным средством сбережения. Тем не менее, они все еще были наиболее широко признанным средством обмена в этой стране; и мало кто сомневается, что именно они, а не доллары, были “деньгами” Бразилии.
Или рассмотрим другой случай: британский фунт стерлингов. Задолго до того, как в Великобритании появилась такая вещь, как фунтовая монета, фунт стерлингов служил ее основной расчетной единицей. С другой стороны, золотая “гинея”, которая на протяжении большей части своего существования стоила 21 шиллинг, или 1 фунт и 1 шиллинг, была настоящей монетой, которая обращалась, наряду с дробными аналогами, в Великобритании с 1663 по 1814 год (когда она уступила место соверенам). Однако она имела лишь очень ограниченное применение — в контрактах между “джентльменами” — в качестве расчетной единицы. И все же, кто сомневается, что гинеи были британскими “деньгами”?
Возвращаясь еще дальше, в средневековье, мы находим еще более веские основания для отказа от определения денег как “расчетной единицы”, поскольку пестрота монет в те времена заставляла купцов прибегать к учетным единицам, не имевшим реальных монетных аналогов. В некоторых случаях эти единицы были основаны на том, что покойный Джон Манро называл “призрачными” деньгами — ранее используемыми монетами, которые больше не обращались. Должно быть очевидно, что такие “призрачные” деньги не могут быть реальными деньгами. То есть, больше не существовало никакого счетного материала, на который они ссылались. Они были “чистыми” учетными единицами, и в качестве таковых были полностью отделены от любых реальных средств обмена. Таким образом, средневековая ситуация представляет собой особенно ясный пример ситуации, когда термин “деньги” мог относиться либо к фактическим средствам обмена, либо к средствам, на которых основывались преобладающие учетные единицы, но не мог относиться ни к чему, что было бы и тем, и другим. Так что же это было?
Некоторые экономисты прошлого без колебаний сказали бы, что под “деньгами” подразумевались монеты, которые действительно использовались, а не “призрачные” монеты, которых больше нет. Многие сегодня тоже так считают. Но если некоторые не уверены в этом, то это можно объяснить небрежностью, которую экономисты прошлого допустили при чтении великой работы Уильяма Стэнли Джевонса.
Что на самом деле сказал Джевонс
Глава III книги Уильяма Стэнли Джевонса “Деньги и механизм обмена” (1875), как правило, является тем местом, на которое ссылаются, когда рассмативают “деньги” как нечто, что выполняет несколько различных функций. На самом деле, Джевонс называет не три, а четыре функции денег: три, о которых сегодня говорится в большинстве учебников, плюс четвертая функция “стандарт отложенных платежей”.
К 1919 году трактовка Джевонса уже стала настолько популярной, что ее подытожили в популярном тогда двустишии:
Money’s a matter of functions four,
A Medium, a Measure, a Standard, a Store.
В конце концов, “мера” (ценности) и “стандарт” (отложенных платежей) были объединены в “единицу” (учета), что привело к появлению ставшего стандартным трехфункционального определения, хотя до сих пор иногда встречаются ссылки на четыре функции денег.
Сегодня все знают, что Джевонс обнаружил “три функции денег”, но далеко не всем известна его оценка каждой из этих функций. Внимательное изучение этой оценки показывает, что Джевонс на самом деле считал только одну из функций денег существенной, следовательно, определяющей.
С самого начала обсуждения Джевонс ясно дает понять, что он считает только две из четырех функций денег “высокозначимыми”. Он пишет:
Мы видели, что практика простого бартера сопряжена с тремя неудобствами, а именно: невероятностью совпадения между желающими и обладающими; сложностью обмена, в котором оба вымениваемых предмета не могут быть измерены в терминаз третьего предмета; и невозможностью подвергнуть ценные предметы делению, с целью отчуждения их по частям. Деньги устраняют эти неудобства и тем самым выполняют две различные функции высокой важности, выступая в качестве
- Средства обмена.
- Общей меры ценности.
Остальные две функции денег имеют для Джевонса лишь второстепенное значение. Функция “стандарта ценности”, по его словам, развивается лишь как ответвление от других функций денег. Что касается функции “сбережения”, то хотя деньги могут быть полезным средством хранения и передачи ценности, “алмазы и другие драгоценные камни, а также предметы исключительной красоты и редкости” могут служить той же цели. Джевонс также признает связь между неденежными средствами сбережения и ранними деньгами:
Использование ценных предметов в качестве хранилища или средства передачи ценности может в некоторых случаях предшествовать их использованию в качестве валюты. Господин Гладстон утверждает, что в гомеровских поэмах золото упоминается как сокровище и средство сбережения, иногда используемое для оплаты услуг и прежде чем оно стало общепринятой мерой ценности, для этой цели использовались волы. Исторически сложилось так, что такое почитаемое вещество, как золото, служило, во-первых, товаром, ценным в декоративных целях; во-вторых, хранимым богатством; в-третьих, средством обмена; и, наконец, мерой ценности.
Наконец, в подразделе, специально посвященном “разделению [денежных] функций”, Джевонс прямо признает неадекватность любого определения денег, которое настаивает на том, чтобы они выполняли все четыре названные им функции. По его словам, только потому, что люди “привыкли использовать одну и ту же субстанцию всеми четырьмя различными способами”,
они считают почти необходимым то объединение функций, которое в лучшем случае является вопросом удобства и не всегда желательно. Мы можем, конечно, использовать одну субстанцию как средство обмена, вторую — как меру ценности, третью — как стандарт ценности, а четвертую — как хранилище ценности. При покупке и продаже мы могли бы передавать порции золота; расчет цен мы могли бы производить в терминах серебра; если бы мы хотели заключить долгосрочную аренду, мы могли бы определить арендную плату в терминах пшеницы, а когда нам нужно было бы унести свое богатство, мы могли бы обменять его на горсть драгоценных камней.
Но разве Джевонс не сказал, что у денег есть не одна, а две функции “высокой важности”? Так и есть. Но если мы посмотрим, как продолжается абзац, в котором он это говорит, то обнаружим, что только одна из этих двух важных функций действительно важна — то есть достаточно важна, чтобы быть существенной или решающей.
В своей первой форме деньги — это просто любой товар, ценимый людьми, любой предмет пищи, одежды или украшения, который любой человек охотно примет и который, следовательно, каждый человек желает иметь при себе в большем или меньшем количестве, чтобы иметь средства для приобретения жизненно необходимых вещей в любое время. Хотя многие товары могут быть способны выполнять эту функцию средства платежа более или менее безупречно, какой-то один товар обычно выбирается в качестве денег par excellence в силу обычая или обстоятельств.
Другими словами, деньги — это, прежде всего, общепризнанное средство обмена. Использование стандартной денежной единицы в качестве общей меры ценности, хотя оно тоже в конечном счете имеет “большое значение” в том смысле, что способствует дальнейшему упрощению и ускорению обмена, является еще одним ответвлением этой единственной, фундаментальной роли. То, что сначала служит общепринятым средством обмена
затем начинает использоваться в качестве меры ценности. Привыкнув часто обменивать вещи на денежные суммы, люди узнают ценность других предметов в денежном выражении, так что все обмены будут легче всего рассчитываться и корректироваться путем сравнения денежных ценностей обмениваемых вещей.
Отсюда следует, что в тех относительно редких случаях, когда две функции, обычно выполняемые одним и тем же предметом, вместо этого выполняются разными предметами, “деньгами” считается только тот предмет, который обычно принимается в обмен.
То, что человек, придумавший выражение “двойное совпадение желаний” и впервые представивший деньги как нечто, способное восполнить отсутствие таких “двойных совпадений” в бартерных экономиках, должен был отвести главное место функции денег как средства обмена, не должно нас удивлять. Но Джевонс вряд ли был уникален в этом отношении. Такого же мнения придерживались и другие выдающиеся теоретики денежного обращения конца XIX и XX веков, в том числе Карл Менгер.
Менгер о функциях денег
Тот, кто знаком с известной теорией Менгера об эволюции денег, знает, что он отождествляет их с наиболее легко принимаемыми или “продаваемыми” товарами или активами экономики. Как и Джевонс, Менгер признает, что деньги обычно выполняют и другие функции, но эти функции он считает второстепенными. Так, когда Менгер в “Принципах экономики” замечает: “В условиях развитой торговли единственным товаром, в котором все остальные могут быть оценены без окольных путей, являются деньги”, он не определяет деньги как средство учета: он просто замечает, как и Джевонс, что деньги также станут наиболее удобным средством учета в экономике. Менгер признает, кроме того, что
этот результат не является необходимым следствием денежного характера товара. Можно легко представить себе случаи, когда товар, не имеющий денежного характера, тем не менее служит “мерой цены”… Поэтому функция служить мерой цены не обязательно является атрибутом товаров, которые приобрели денежный характер. И если она не является необходимым следствием того, что товар стал деньгами, то тем более не является предпосылкой или причиной того, что товар стал деньгами.
Как бы предвосхищая настоящую критику, Менгер далее отмечает, что “многие экономисты объединили понятие денег и понятие “меры ценности” вместе, и в результате оказались вовлечены в заблуждение относительно истинной природы денег”.
Менгер избавляется от взгляда на деньги как на “меру ценности” примерно таким же образом:
Те же факторы, которые ответственны за то, что деньги являются единственным товаром, по которому обычно производится оценка, ответственны и за то, что деньги являются наиболее подходящим средством накопления той части богатства человека, с помощью которой он намеревается приобрести другие товары (предметы потребления или средства производства). …Но представление, приписывающее деньгам как таковым функцию переноса “ценностей” из настоящего в будущее, следует признать ошибочным. Хотя металлические деньги, благодаря своей долговечности и низкой стоимости сохранения, несомненно, пригодны и для этой цели, тем не менее, ясно, что другие товары все же лучше подходят для этого. Действительно, опыт учит, что там, где денежный характер приобрели не драгоценные металлы, а менее легко сохраняемые товары, они обычно служат для целей обращения, но не для сохранения “ценностей”.
Более поздние австрийские экономисты были, если можно так выразиться, еще более категоричны в этих вопросах, чем Менгер. По словам Людвига фон Мизеса, “деньги — это вещь, которая служит общепринятым и общеупотребительным средством обмена. Это его единственная функция. Все остальные функции, которые люди приписывают деньгам, являются лишь частными аспектами их главной и единственной функции — средства обмена”. Мюррей Ротбард также отмечает, что, хотя “во многих учебниках говорится, что у денег есть несколько функций… должно быть ясно, что все эти функции являются лишь следствиями одной главной функции: средства обмена”.
Деньги — это общепринятое средство обмена
Итак, можем ли мы отказаться от глупого трехфункционального определения денег? Что с того, что авторы учебников продолжают его повторять? Оно бессвязно. Оно основано на небрежном прочтении классического труда Джевонса некоторыми ранними экономистами. Оно поощряет людей говорить глупости. Короче говоря, оно не приносит ничего, кроме путаницы и беды.
Существует вполне разумное альтернативное определение — то, которое озаглавливает этот раздел. Оно было одобрено многими величайшими экономистами всех времен, включая того, кто, как ошибочно полагают, дал нам глупую альтернативу из трех частей. Оно избегает всех недостатков трехчастного определения. И его легче запомнить.
отсюда
Бесплатное видео Asian-Pacific Financial Forecast
5 уроков как предвидеть тенденции и развороты в криптовалюте, акциях, валютах, золоте, нефти
Руководство по выживанию для инвестора в золото: 5 принципов, которые помогут вам опережать повороты цен
Видеоурок от Джеффри Кеннеди: «Как найти идеальный момент для входа»
Три видео о товарных рынках (хлопок, соя, нефть) - бесплатный доступ на elliottwave com
Руководство по крипто-трейдингу: 5 простых стратегий, чтобы не упустить новую возможность
Теперь настольную книгу волновиков "Волновой принцип Эллиотта" можно найти в бесплатном доступе здесь
И не забывайте подписываться на мой телеграм-канал и YouTube-канал
Бесплатное руководство «Как найти возможности для торговли с высокой вероятностью с помощью скользящих средних»